По поводу и без повода
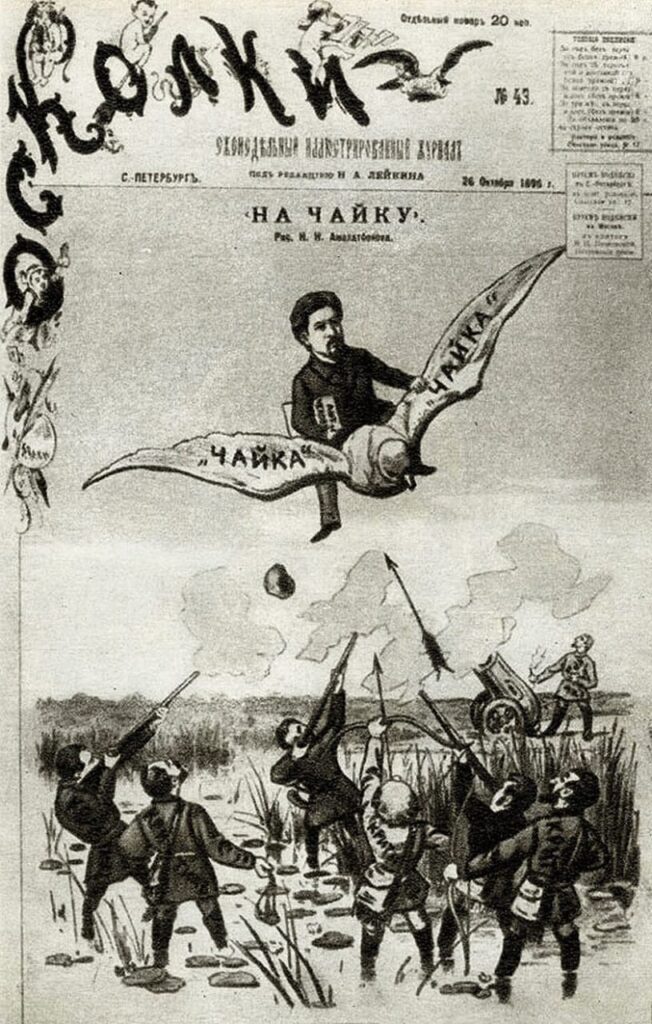
О «Чайке» Л.Додина, безусловно, нужно говорить всерьёз. По нынешним (и не только) временам не такой уж частый случай; вот только для начала не худо бы определиться, о чём именно стоит говорить.
Любопытно: ни один из прочитанных мной рецензентов не пытается разложить спектакль на составляющие. Нет, никоим образом не в упрёк – на сцене всё на удивление цельно (или, если угодно, крепко сбито); от греха подальше уточню, что это – достоинство спектакля, что бы там ни трындели некоторые «знатоки».
Но о чём же тогда пишут рецензенты? Много (безудержно) хвалят актёров. Тут я, честно говоря, не соглашусь, и дело, полагаю, отнюдь не в самих актёрах – в талантах, к примеру, И.Черневича (Тригорин) сомневаться, право же, смешно (а Тригорин в спектакле – безусловно, персонаж № 1). Проблема, скорее, в том, что спектакль режиссёрский, жёстко режиссёрский, и актёрам там развернуться, по сути, негде, рамки весьма тесные. Чеховский Тригорин говорит: «Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен…» А в этом спектакле практически каждый зациклен на «своей луне», оттого и персонажи выглядят как-то однобоко, даже немного гротескно. В результате никого из них, увы, не жалко (разве что Медведенко во втором действии, но «Чайка», как ни крути, прежде всего не о нём). В общем, актёры, похоже, профессионально выполняют поставленные перед ними задачи, но, на мой взгляд, не более того. Почти то же, но в лайт-версии М.Токаревой: «Додин каждому из персонажей словно ставит текстовые «бортики» – так, чтобы они проявлялись и двигались только в колеях своего устройства, своей внутренней жизни, центром которой являются сами». Право, не вижу в таком подходе ни малейшего криминала: да, персонажи выглядят чуть карикатурно (у каждого – «своя луна»), но, в конце концов, «Чайка» обозначена Чеховым как комедия, так почему бы и нет?
Ладно, а о чём ещё пишут рецензенты? Естественно, они пытаются на свой лад «расшифровать» увиденное, и тут у меня порой возникало ощущение, что они смотрели один спектакль, а я – какой-то другой. Оно, конечно, каждый имеет право на собственную точку зрения, и монополии на истину ни у кого (включая, естественно, меня) нет и в помине, но… Не исключаю, впрочем, что на родной сцене эта «Чайка» выглядела по-другому; вряд ли настолько, но кто знает?
Приведу один характерный пример. Все рецензенты пишут о лодках как основе сценографии: в первом действии они (лодки, конечно, а не рецензенты) заметно качаются под ногами героев (как бы подчёркивая зыбкость их существования?), во втором – неподвижно лежат днищами вверх (приплыли?) Это понятно, но почему ни в одном отзыве нет ни слова о том, что в первом действии мы видим 7 лодок (по числу персонажей), а во втором – только 5? Кого сократили? Нину, которая как бы – отрезанный ломоть? Возможно, но кого ещё? Треплева? Но он застрелится только в самом конце, а до финала на живой труп как-то не похож. Нет, не обессудьте, не понял, но, по крайней мере, заметил. Тогда почему же рецензенты по этому поводу как воды в рот набрали? Дружно проглядели? Так не бывает. Тоже не поняли, что к чему, но побоялись сознаться и предпочли умолчать? Опять же крайне сомнительно. Не понимаю, теряюсь в догадках, и гипотеза о спектаклях-однофамильцах напрашивается сама собой.
Существенно. По сравнению с пьесой из спектакля Додина выпали некоторые персонажи; такого трудно не заметить, и рецензенты, разумеется, не забыли об этом упомянуть. И тут своё слово сказала Ж.Зарецкая, некстати решившая тряхнуть эрудицией: «Работа Додина с текстом пьесы – это тончайшая «игра в бисер». «Комедия, три женские роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви», – так писал в 1895 году о будущей «Чайке» Чехов Суворину, известному петербургском журналисту, писателю, драматургу. Эту фразу Додин отдает беллетристу Тригорину, но с фактическими правками: мужских ролей в спектакле осталось четыре, женских – три. Как ни бывало доктора Дорна, хама-управляющего Шамраева и его глуповатой жены Полины Андреевны». Но на самом деле в «Чайке» не три женских роли, а четыре (пятая – горничная, только это, по сути, не роль, так что остановимся на цифре «4»). В письме Суворину Чехов, возможно, просто ошибся второпях – или, не исключу, четвёртая дама появилась позже, но у Зарецкой, обратите внимание, получилось волшебно: было три женские роли, одну Додин исключил, осталось три. К сожалению, математикам нобелевскую премию не присуждают – г-жа Зарецкая с формулой 3 – 1 = 3 имела бы все шансы проснуться лауреатом. Кстати, эта критикесса с термодинамикой тоже на дружеской ноге: «задник сцены, сшитый из гладких металлических листов, если и отражает теплый свет, то это лучи холодного солнца в зеркале северного моря». Тёплый свет холодного солнца – не иначе, подогревшийся в зеркале северного моря (в девичестве – «колдовского озера»?), вот ведь какое чудо природы…
Увы, на одних науках, как бы они ни впечатляли, далеко не уедешь; стало быть, вернёмся на сцену. Тригорин у Чехова – лишь один их главных героев, тогда как у Додина он, безусловно, самый главный; где-то рядом – Аркадина, а Треплев и Нина, по сути, превратились в персонажей второго плана, почти на равных с Сориным или Машей, фигуры которых усилены за счёт персонажей, угодивших «под сокращение». И тут, к сожалению, возникают вопросы. Когда в финале у Чехова за сценой раздаётся выстрел, выяснять, что там случилось, отправляется врач Дорн, и это выглядит вполне естественно («должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. (Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.) Так и есть. Лопнула склянка с эфиром»). У Додина эту функцию Дорна забирает себе ворвавшаяся на сцену Маша. Почему Маша, зачем Маша, при чём тут Маша? Тем более, она не имеет отношения ни к каким «склянкам» и, более того, ни к какому эфиру. Кто она, собственно, и что делает в имении Сорина? Если по Чехову, понятно: дочь управляющего. Но «поручика в отставке» Додин тоже убрал, а Машу, чтобы как-то узаконить её присутствие, заявил экономкой. А.Кириллов справедливо удивился «экономке», «ни разу за время спектакля не озаботившейся ни одним «экономическим» вопросом». А ведь чеховский Шамраев «хозяйственными» проблемами занят постоянно («как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо», «Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?.. А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты?»). Его «экономическую деятельность» подтверждает Сорин, хотя и брюзжит привычно: «Всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают…» А «экономка» Маша? Нет, это по-любому совсем не её роль.
Это во-первых, но есть ещё и во-вторых: Маша, как ни крути, человек праздный (только не путайте, пожалуйста, «Чайку» и «Что делать?»: для Чернышевского праздность – порок, а для Чехова – несчастье, убивающее человека); вспомните, с чего начинается пьеса: «Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?
Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.
Медведенко. Отчего? (В раздумье.) Не понимаю… Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком…» Экономка (учительница, фельдшерица, не суть) не будет лепить «трагический образ» и носить траур напоказ, у неё иных забот полон рот, согласитесь. Короче, не сходится никаким образом: экономка из Маши, как из Треплева – молотобоец; получается, от изъятия не слишком нужных, казалось бы, персонажей пьеса как-то перекособочивается, что не есть хорошо.
Да, полагаю, это минус. Теперь о плюсах. Главный из них – очень неожиданный для меня Тригорин. Ещё раз подчеркну: не Тригорин Черневича, а Тригорин Додина, воплощённый Черневичем; у самого актёра, не сомневаюсь, персонаж получился бы более тёплым, вызывающим сочувствие (потому что живой), а здесь – не то, чтобы карикатура, но скорее функция (писатель), чем человек из плоти и крови. Будьте уверены, если бы этому Тригорину предложили выбирать между Аркадиной и Заречной, он выбрал бы свою записную книжку, с которой носится, как носовский Смекайло – с родным бормотографом, записывает туда или зачитывает оттуда. Тригорин в спектакле – можно сказать, автошарж Чехова (не автопортрет, а именно автошарж, другой жанр). И «Чайку», кстати, написал ни кто иной, как Тригорин (что подчёркнуто в финале спектакля). Тут, между прочим, стоит напомнить, что чеховский Тригорин – не только прозаик, но ещё и драматург: «когда мне приходилось ставить [то бишь, надо полагать, писать] свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны». И ещё нелишне отметить: Чехов (почти) всегда сочувствует своим персонажам, зато читатели… как бы помягче… его раздражают. Как и Тригорина («Я боялся публики, она была страшна мне… если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами»).
Тем не менее, именно писательство – та самая тригоринская «луна» (тут уж, как говорится, сам сознался). Характерная деталь: в современном театре Аркадина, чтобы не отпустить Тригорина к Нине, нередко без особых кунштюков затаскивает его в постель. Но в пьесе-то она прекрасно понимает, что к чему, и атакует именно с той стороны, с которой Борис Алексеевич весьма податлив и уязвим («Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России… У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора… Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза… посмотри… Похожа я на лгунью? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный…»). В чём бы ни заключалась последующая «лирическая часть» – это лишь закрепление уже достигнутого успеха.
А с чего начинает свою атаку на известного писателя Нина Заречная? Напомню: «я хотела бы побывать на вашем месте… Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?.. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали!.. вам, – вы один из миллиона, – выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения… Вы счастливы…» Путь к сердцу мужчины не всегда лежит через желудок, есть иные пути (помнится, Гамлету-отцу белену влили в ухо).
Никакое литературное соперничество с Треплевым для Тригорина невозможно – хотя бы потому, что он не видит соперника в «молодом человеке», не готовом к тому же стать «рабом лампы» (в нашем случае – записной книжки) и вместо этого придумывающем что-то ни о чём; сравните хотя бы: «на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса» и «бедная луна напрасно зажигает свой фонарь»… нет, конечно, о вкусах не спорят, но не до такой же степени…
Другое дело – две актрисы, Аркадина vs Заречная. Тут вполне можно рассудить и так, и эдак, и даже зафиксировать ничью. Пусть с одной стороны, «Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!», а с другой – «Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе… Взяла ангажемент на всю зиму», но это, не обессудьте, так себе аргумент, вкусы публики трудно считать объективным критерием. Понятно, Харьков по тем временам – город почти столичный, а Елец – где-то там, глухое захолустье, но всё это ничего не доказывает – успех у публики вряд ли напрямую зависит от таланта (известно, каких неумех возносит порой наверх случайная или тщательно рассчитанная волна!) Харьков ли, Елец ли, а режиссёр тут вправе делать собственный выбор между А. и З – кто есть ху, так сказать.
Аркадина в спектакле Додина читает монолог Маши из «Трёх сестёр», читает с придыханием и надрывом. Кто-то в восторге (М.Шимадина впечатлилась: «по-настоящему искренне, с чувством Аркадина читает монолог Маши из «Трех сестер» как одну из своих ролей»), а по мне, чтобы так читать, нужно родиться Дорониной, но Доронина у нас одна, не скопировать, её органика уникальна. Впрочем, опять-таки на вкус, на цвет…
В пьесе, если помните, Треплев отзывается об игре профессиональной актрисы Заречной достаточно кисло: «Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами». Но именно так, с завываниями, читает Аркадина монолог из «Трёх сестёр». Это ни в коем случае не камешек в огород Е.Боярской – не сомневаюсь, она могла бы проделать всё то же самое по-человечески, без «африканских страстей», но, похоже, именно такой увидел Аркадину режиссёр Додин. Любопытно, что монолог, написанный Треплевым, Заречная в спектакле пытается прочитать без экзальтации; поначалу я удивился, как автор/постановщик это терпит, но, возможно, тут достаточно очевидного объяснения: Нина для нашего новатора – отнюдь не только актриса, а в таком случае можно и потерпеть. При этом само исполнение Нины категорически не устраивает радетеля «новых форм», и он тут же повторяет собственный текст так, как ему кажется правильным. Проблема в том, что у части зрителей – свои пристрастия, театр без котурнов для них и не театр вовсе. Несколько цитат из отзывов на спектакль:
«Режиссер лишает образ девушки-чайки поэзии: полная странных символов фантастическая пьеса Треплева исполнена ею без подъема, прозаически, не потому что она Нине непонятна, но потому что ею не принимается. Ей нужны другие пьесы» (Г.Коваленко);
«Заречная читает монолог Мировой души размеренно и холодно. Настолько холодно, что Треплеву приходится потом повторить текст, показывая, как необходимо произносить его с воодушевлением» (А.Кириллов);
«Легендарный монолог Нины Заречной (Анна Завтур) – «Люди, львы, орлы и куропатки…» – в своей провалившейся пьесе про «мировую душу» спустя некоторое время здесь повторит сам Треплев (Никита Каратаев). И как по-настоящему завораживающе прозвучит этот монолог в его исполнении!» (О.Штраус).
Бог с ними, со вкусами, но, на мой взгляд, куда точнее О.Егошина: «Кудрявый поэт с РАС Костя Треплев-Никита Каратаев читает манерно, жестикулируя аристократическими руками с длинными пальцами». Забавно, что сценическая манерность присуща не только матери-актрисе, но и сыну; то ли гены, то ли с кем поведёшься, от того и наберёшься.
Во всяком случае, именно такую «Чайку» увидел я, и это показалось достаточно интересным, хотя и задело скорее рационально, чем эмоционально. Что увидели другие – не ко мне вопрос.
Ну, ничего, эмоциональную встряску могут обеспечить рецензенты – не все, конечно, но некоторые. Ещё несколько цитат; авторов на сей раз указывать буду, чтобы никому не было обидно и одиноко, как «мировой душе». Ссылка нынче общая, цитаты позаимствованы с https://mdt-dodin.ru/plays/premier/?event=2651. Все без исключения, проверить при желании не составит труда. Итак, поехали.
Пишет Н.Яковлева: «Перетасованы фразы, события, но это никак не меняет их судьбу. Они всё равно разговаривают, спорят, входят в творческий экстаз, стреляют, поют и танцуют». Простите, чью судьбу, фраз или событий? И кто из этих «них», любопытно, попал на кавказскую свадьбу, где разговаривают, стреляют и танцуют?
Она же: «Лодка даёт много пространства для маневра: можно упасть на дно, опасно стоять на борту, сжавшись сидеть на носу, или вызывающе болтать ногами, свесив их в воду». Есть, по логике, ещё один вариант: взяться за вёсла и попробовать куда-нибудь выплыть, но кому интересна суровая проза? Душе возвышенной, понятно, не до того.
И ещё: «В чайку стреляют болезненно много раз, от этого становится жутко». Конечно, для пущей жути можно бы и прикладом добить, но на сей раз, к счастью, обошлось.
Ох, уж этот Кавказ! Для Г.Коваленко мир без него тоже пустоват: «На строке «злой чечен ползет на берег» Треплев бросает мрачный взгляд на Тригорина – такая вот постмодернистская ироническая ухмылка».
Она же: «Черневич оправдывает слишком частое обращение своего героя к записной книжке, хотя это временами вызывает улыбку и даже смех. Но он [смех?] невозмутим, это одиночество творца». Понятно, если Кавказ, то непременно «Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины», с чайкой в роли орла.
Конечно, без женщин жить нельзя на свете, но и без мужчин порой тоже скучно. А.Чепуров: «Для него [Додина] Чехов – второй Шекспир, в котором отразился весь мир, где микрокосм человеческой души и макрокосм бытия сопрягаются в сложных конфликтных отношениях, где повседневные человеческие чувства и ощущения обнаруживают себя в свете общего состояния мира и души современного человека, обострённо ощущающего предел своего земного материального существования и ищущего для себя опору в таком фатальном [фатальный – Роковой, неотвратимый, неизбежный] явлении, как жизнь». Простите, кто на ком стоял?
«Додин переносит акцент с доктора Дорна («врачевателя») на литератора (художника) Тригорина (Игорь Черневич), делая его не просто героем, но чуть ли не автором всей разыгрываемой пьесы». Дорн у Чехова – персонаж, конечно, важный, но явно не самый главный (если уж насчёт акцента). Забавнее, однако, другое: если убрать «подакцентного» (по мнению рецензента) персонажа, как это сделал Додин, с акцентом непременно что-нибудь произойдёт. Нет человека – нет проблемы? явно не наш случай.
«Нина … лишена какого бы то ни было одухотворения… додинская Аркадина, наоборот, когда-то была подвержена одухотворению: и жила у «колдовского» озера, и в пьесах Чехова в Харькове играла». Не рискну комментировать, ибо одухотворению не подвержен.
«для Чехова отсутствие счастья и взаимности – ведущий лейтмотив». Неужели где-то водятся ведомые лейтмотивы?
Наконец, «его [Треплева] смерть какая-то нереальная (он этого лишён), а скорее «театральная»». Уточните, пожалуйста, чего именно лишён Треплев – реальной смерти, что ли? Вечно живой, типа? Ну-ну.
И за честь женского пола найдётся, кому постоять. Н.Исмаилова: «аскетичные выразительные мизансцены (парные сцены главных персонажей с признаниями и осуждениями на виду у всех персонажей – бессмысленно притворяться, ложь дырявый наряд), право же, хочется запечатлеть как графический рисунок, в рамочку и на стену». Мизансцены в рамочках, развешанные по стенам – и всё в ажуре?
«И страдания идут в топку творчества». Конечно, в топку, куда же ещё!
Завершает эстафету М.Шимадина. «Колдовское озеро замерзло, свищет ветер, герои зябко кутаются в пальто, но не могут согреть друг друга. «Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно»». Кто-то жаловался, будто у нас перевелись редакторы? Как видите, нет; Треплев вы или Чехов, а расслабляться не стоит. Не пойму, правда, с какой целью «Холодно, холодно, холодно» редактор заменил на «Колдовское озеро замерзло, свищет ветер, герои зябко кутаются в пальто, но не могут согреть друг друга» – для краткости? Или всё-таки для красоты? Гадать лениво, не говоря уже о том, что их, редакторов, не поймёшь.
«В «Чайке» он [Додин, естественно] тоже убрал второстепенные роли, оставив лишь тех, меж кем натянуты невидимые нити напряжения». Красиво, конечно, но это бедная луна напрасно зажигает свой фонарь.
И вишенка на торте: «А тем, кому не повезло найти свой путь в творчестве, остается только застрелиться». Умри, Денис, лучше не напишешь!
На этой высокой ноте надо либо закруглиться, либо застрелиться. Первое всё-таки предпочтительнее.